А вот эта комната настолько проста, что ее даже простой не назовешь. Ее скорее можно назвать строгой и (чтобы польстить ее хозяину) – стильной. Но, откровенно говоря, она просто скучная. В любом случае совершенно неуютная. Ему что, не рассказали, что на стены можно что-то вешать? С его работой он мог бы позволить себе парочку симпатичных картинок, а за те деньги, что он, должно быть, потратил на этот уродливый гарнитур в гостиной, можно было бы покрыть стены золотом…
Голоса стали громче. Уже почти девять. Встаю с кровати и иду вдоль высокого комода, ящики которого украшены медными ручками и какими-то резными завитушками. Возле него стоит несколько прямоугольных столиков, на них – точная копия лампы возле кровати и стопки профессиональных журналов. А вот и шкаф. Широкий шкаф с дверцами, распахивающимися наружу. Одна из них громко скрипит, когда я тяну дверцы на себя: я замерла, затаив дыхание. Но голос невидимого незнакомца поднялся до жалобного крика, тогда как Его голос продолжает звучать спокойно и тихо. Я чувствую себя мелким воришкой. «Ну и правильно, – говорю себе, – ты и есть воришка».
Шкаф тянется почти до потолка. Над вешалками две широкие полки. Судя по тому, что я вижу – взгляд достигает только переднего края верхней полки, – на ней лежат: кожаный, сильно затертый чемодан, чехол для фотоаппарата, лыжные ботинки и три черные виниловые папки, на толстых корешках которых пометка – «налоги». Нижняя полка занята пятью плотными толстовками: две темно-синих, одна черная, одна серовато-белая и одна бордовая; и здесь четыре стопки рубашек, исключительно светло-голубые, светло-розовые, белые. («Теперь я раз в год звоню в“ Brooks Brothers”, – расскажет он мне несколько дней спустя, – и они присылают мне рубашки, не приходится заходить в магазин. Ненавижу ходить по магазинам». Когда воротничок и манжеты начинают выцветать, он складывает рубашку в отдельную стопку и надевает только дома – это станет известно мне позже; и китайская прачечная, возвращая ему выстиранные и отглаженные рубашки, складывает выцветшие отдельно от остальных. Если на рубашке появляется пятно, которое не отстирывается, он выбрасывает ее.)
Рядом с рубашками лежат две теннисные ракетки, которые немного не умещаются на полке – ручки выдаются вперед. Шесть белых рубашек-поло на картонной подкладке из прачечной, пять пар теннисных шорт. (Он играет в теннис по вторникам с 12.30 до 14.30, по четвергам с 12.15 до 14.00, по воскресеньям с 15 до 17 – круглый год, что будет доведено до моего сведения. Он носит ракетки в футлярах, в которых они продавались, а остальное – в коричневом бумажном пакете.) Возле правой стенки шкафа, на второй полке лежит стопка из десяти белых наволочек, а рядом стопка побольше – десять белых простыней.
В его распоряжении девять костюмов, не считая того, что на нем сейчас, и тех, которые, наверное, в химчистке. Три – темно-серый, темно-синий в тонкую полоску, серый твидовый; все три с жилетами, сшиты по одной и той же мерке – совершенно новые. Три других – белый льняной, светло-серый фланелевый и еще один летний, из легкой ткани в синюю и белую полоску; два первых с жилетами, и все, опять же, по одной и той же мерке – чуть поношенные. Кроме того, серый габардиновый и темно-серый шерстяной в темную полоску – им, наверное, уже около двух лет; и еще есть смокинг. (Он заказал его четыре года назад, скажет он мне позже; я никогда не увижу его в нем. Однажды он упомянет, что уже 11 лет шьет все костюмы у одного и того же портного в Литтл Италии, что ни в этом году, ни год назад на примерку не ходил, очень довольный тем, что ему удалось убедить протестующего портного, что это делать не обязательно. «Меня внезапно осенило – зачем мне это? Год за годом. Это так нудно, а мой вес не меняется со старших классов, и я уже давным-давно не расту». Как только костюм начинает ветшать, он отдает его китайцу, который стирает его одежду в прачечной. «Но он сантиметров на 60 ниже тебя, – сказала я, когда он таким же образом избавился и от серого габардинового. – Что ему делать с твоим костюмом?» – «Кто знает, – ответил он. – Я никогда не спрашиваю. Он всегда их забирает».)
У него по две пары темно-синих лыжных штанов и брюк цвета хаки, одни из них с пятнами краски. («Я попытался сделать ремонт в ванной пару лет назад, и это было ошибкой. У меня не очень получается то, что я делаю по необходимости. Это никогда себя не оправдывает – ванная была покрашена хуже, чем самое страшное, что ты можешь себе представить».)
Бежевый плащ висит рядом с темным шерстяным пальто, а лыжный пуховик на краю вешалки занимает в ширину сантиметров тридцать. К стене в левом углу прислонен черный зонт. У задней стены диагонально сложены лыжи и лыжные палки. На медной палке с внутренней стороны левой двери висит дюжина галстуков – они настолько одинаковые, что кажутся на первый взгляд единым куском ткани. По большей части они темно-серые или темно-синие с мелким геометрическим орнаментом бордового оттенка; два темно-голубых в мелкий белый горошек, а самый экстравагантный – серого цвета с осторожным белым и, конечно же, бордовым орнаментом. («Я не люблю разнообразия в одежде, – скажет он. – То есть что касается моей одежды. Я люблю знать, что день за днем буду выглядеть примерно одинаково».) На полу в ряд стоят три пары кроссовок, четыре пары совершенно одинаковых черных ботинок и пара кожаных туфель темно-красного оттенка.
Я закрываю двери шкафа и на цыпочках пробираюсь к комоду, который стоит у той стены, что отделяет спальню от гостиной. В нем шесть ящиков: три неглубоких, два среднего размера и нижний – самый большой. Я начинаю с верхнего. Стопка белых платков с вышитыми инициалами, наручные часы без браслета, старые карманные часы, черный шелковый галстук-бабочка, сложенный вдвое (в крышке от какой-то банки джема), набор незатейливых золотых запонок, узкий золотой зажим для галстука и еще один – из темно-голубой эмали с тонкой золотой нитью, тянущейся до середины. Кто-то купил это дня него, думаю я, это точно подарок, и довольно хороший подарок. Следующий ящик: две пары черных кожаных перчаток, одна с подкладкой, другая без; пара – из коричневой кожи, без подкладки; большие толстые лыжные варежки; широкий пояс. Третий: плавки защитного цвета, спортивные шорты, пижама – тоже серо-зеленая в белую полоску – не распакованная. Еще один подарок? Нет, на пластиковой упаковке еще висит ценник. В следующем ящике, первом из средних, скрываются белые трусы, не меньше двух дюжин. Сверху в пластиковом пакете лежат 14 пар белых шерстяных носков и рубашка с манишкой. Большой ящик застрял, и мне приходится дернуть за ручку несколько раз. Когда мне наконец удается приоткрыть его, я замираю от удивления: набитый до предела ящик лопается от переполняющих его сотен одинаковых длинных черных носков. Мне в голову приходит мысль: у этого человека больше носков, чем у всех моих знакомых мужчин, вместе взятых; он что, боится, что однажды ночью в стране не останется ни одной ткацкой фабрики? («Ненавижу прачечные, – скажет он несколько недель спустя. – Несложно, если подумать, но у меня на это ушло много времени. Чем больше у тебя вещей, тем реже приходится ходить в прачечную или в магазин». В тот день я лежала на кровати и смотрела на него, чувствуя, как растворяется, как плавится мое тело: он достает два носка, засовывает руку в один из них – кожа просвечивает через ткань на пятке, хотя еще и намека нет на появление прорехи – и бросает его в мусорную корзину. «Еще хорошо, если они все одинаковые, – говорит он затем. – Так тебе никогда не придется искать пару. Я весь колледж с этим возился, достает ужасно».)


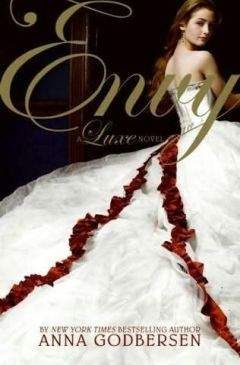
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)

